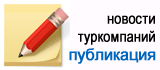Импрессионизм с Крайнего Севера Константин Коровин в Русском музее
В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения Константина Коровина (1861-1939), имеющего право носить гордое звание импрессиониста более, чем кто-либо другой из русских художников. Посетив вернисаж, МИХАИЛ ТРОФИМЕНКОВ открыл закон зависимости эстетической ориентации художника от его географического расположения в отдельно взятый момент времени. Игорь Грабарь еще в 1909 году авторитетно заявил, что именно с Коровина "началась история новейшего искусства в России", и эта оценка выдержала столетнюю проверку временем. Коровина не хочется называть русским импрессионистом. В этом словосочетании скользит какая-то полуизвиняющаяся, полузаносчивая нота, вроде — да, он, как и французы, открыл автономную ценность и прелесть зыбкого, привольного цвета и света, но то ли дополнил ее русской реалистической традицией, то ли так и не смог от нее избавиться.
Коровин же был просто импрессионистом — точнее, стал им в полной мере с тех пор, как с конца 1880-х годов все чаще и чаще стал бывать в Европе. Его дымчатые, почти монохромные виды марсельского порта, его суматошный, мерцающий, дробящийся ночной Париж — это не подражание французским учителям: он просто смотрел на мир в том же ракурсе, что и они. При этом, став импрессионистом уже в годы постимпрессионизма, он не окостенел в этом эстетическом амплуа. Его живопись оставалась открытой новым веяниям, становясь с течением времени смелее и интереснее.
И не стоит сокрушаться по поводу судьбы Коровина, "умершего в изгнании". В конце концов, он умер в Париже — в городе, любовь к которому пропитывает его лучшие работы.
Другое дело, что импрессионистом Коровин становился преимущественно в своих европейских поездках. А возвращаясь на родину — нет, конечно, не перевоплощался в передвижника, — но на родную природу смотрел уже не с той смелой свободой, что на парижские бульвары. Возвращались саврасовская меланхоличность и левитановская задумчивость, которые так не шли этому веселому гуляке, старообрядцу, перевоплотившемуся в истинного парижанина.
Но это все Коровин знакомый, привычный. Главный же козырь выставки в Русском музее — другой. Это впервые (после выставки общества "Мир искусства" в Петербурге в 1901 году) экспонированные работы, созданные художником для отделов Сибири и Крайнего Севера павильона окраин России на парижской Всемирной выставке 1900 года. На Север художник ездил с Валентином Серовым еще в 1894 году, в 1896 году оформлял павильон Крайнего Севера на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, а парижский цикл — итоговая формула северной темы. Двадцать три огромных декоративных панно вызывают ассоциации очень со многим, но ни в коем случае не с импрессионизмом.
С одной стороны, это, конечно, модерн. Фирменная коровинская живописность вытеснена строгой, но и прихотливой графикой скал и корабельных сосен. Эту природу не застигнуть врасплох, она многозначительна до мистичности, похожа на декорацию для древнего, языческого ритуала. Притом что Коровин и мистика — понятия, казалось бы, несовместные.
С другой стороны, эти панно вызывают неожиданные ассоциации с гораздо более поздними феноменами искусства ХХ века. Условно говоря, с Рокуэллом Кентом. Или — особенно когда на панно въезжает "Поезд самоедов" и тундра оживает — с советским "суровым стилем" 1960-х. Ведь романтика освоения Заполярья и прочих диких уголков СССР была одной из важнейших тем этого направления. А та самая графичность и многозначительность природы, которую едва ли не первым воплотил в живописи Коровин, оправдывала отступления "суровых" художников от ортодоксального соцреализма.
Академик Коровин, Коровин как основоположник "новейшего искусства в России" — все это почетно и прекрасно. Но едва ли не самую лестную оценку его творчеству дало военное ведомство. Когда началась Первая мировая война, Коровина пригласили в генеральный штаб консультантом по маскировке. А камуфляж кому ни попадя не доверят. Только художнику, абсолютно адекватному современным художественным поискам, ведь камуфляж — та же абстрактная живопись.
Другие новости по теме «Музеи, памятники, парки»